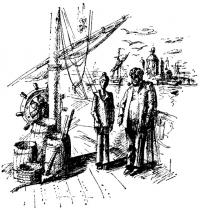Однажды, а было это в июне 1913 г., отец как-то между прочим спросил: «Слушай, дружок, ты уже большой парень, а не хочешь ли поплавать на парусном корабле юнгой?» Как я ни был ошеломлен неожиданным предложением, немедленно согласился. А дальше все пошло, как в тумане. Назавтра на Александровском рынке, где продавалось все, что угодно, и притом недорого, куплена была матросская роба, две тельняшки и вязаная шапочка. А через день вечером отец привел меня на Тучкову набережную, сплошь заставленную баржами с дровами и парусными лайбами, стоявшими лагом одна к другой. Было шумно, слышалась финская и шведская речь, звуки гармошки и не особо стройного пения. Погрузочные работы везде уже заканчивались, матросы выходили гулять на набережную. Величаво прохаживались городовые, то и дело встречались таможенные чиновники в черно-зеленой форме.
С большим трудом нашли двухмачтовую шхуну — лайбу «Св. Анна». Шкипер, видимо, нас поджидал. Это был типичный финн — невысокий, полноватый, с круглым очень загорелым лицом и маленькими глазками. Шкипер — это было официальное звание, в быту шкиперов всегда величали капитанами.
— Здравствуйте, капитан, — обратился к нему отец. — Вот привел вам юнгу, обучайте его делу, работать заставляйте, как матроса...
Капитан хмыкнул, не торопясь, протянул руку отцу и пригласил в рубку. О чем они говорили, я не слыхал, но видел, как отец вынул бумажник и передал деньги (пять рублей на питание).
— Ну, Юрка, не позорь «Руслана»! — сказал он на прощанье и уехал.
Мне стало как-то не по себе. Я впервые оказался среди совершенно чужих людей, к тому же — явно не разговорчивых.
Капитана звали Карл Карлсон. По-русски он говорил с большим акцентом и не все слова выговаривал, но кое-как понять было можно. Букву «Р» он вообще не произносил, поэтому с первых же минут мое имя — Юрий — было переделано им по-своему. Помедлив, он обратился ко мне: «Пойдем, — и, подумав, добавил, — Юля!»
Провел по палубе. Прежде всего показал грубо сколоченный гальюн; это было что-то вроде плохой собачьей конуры, державшейся на двух бревнах на крамболе левого борта. Затем подвел к шпилю. Все его объяснения четко укладывались в одно слово: якорь, бушприт, кубрик. Это все мне было знакомо. Бросалась в глаза исключительная чистота и полный порядок на палубе. Все на своих местах, все разобрано, принайтовлено. Тросы, висевшие в большущих бухтах под гиками, приятно пахли смолою. Между мачтами помещался грузовой люк, уже закрытый и обтянутый брезентом.
К нам подошел пожилой моряк, очень похожий на капитана Карлсона. Капитан что-то коротко сказал ему по-фински, а затем мне по-русски: «Боцман — дядя Андрей. Он обучит тебя узлам». Боцман крепко стиснул мне руку и только сказал: «Хорошо!» Этим церемония и завершилась. (Скажу сразу, что дядя Андрей на всю жизнь научил меня вязать многие морские узлы с закрытыми глазами!)
Матросы, их было человек пять-шесть, пошли спать вниз, в кубрик. Каюта же капитана помещалась наверху, в квадратной рубке на корме, у самого штурвала. Внутри ее по бортам были застелены две койки, поперек — стоял деревянный диван, а на середине массивный стол с табуретками. Под потолком раскачивался морской штаговый фонарь. Широкие квадратные иллюминаторы походили на обыкновенные окна. Над конкой капитана прикноплены были какие-то фотографии (видимо, родня). Вот, пожалуй, и все убранство, если не считать еще сетки для карт под потолком, полочки с несколькими книгами да тумбочки у дверей — в ней хранился судовой журнал и другие документы.
— Ляжем-ка, Юля, поспать, ночью пойдем, — сказал капитан и сел снимать сапоги. Тем все наши разговоры и закончились.
Что-то крепко стукнуло в борт, заскрипело. Проснувшись, я не сразу сообразил, где нахожусь. Затем услышал громкие голоса, топот. Через распахнутую дверь мутно светилось небо — стояли белые ночи. Одевшись, выскочил я на палубу. Над планширем возвышалась и дымила высокая, тонкая, как у самовара, труба буксирчика. Казалось, она торчит прямо из воды, — так мал был этот портовый труженик даже по сравнению с нашей небольшой лайбой.
Дым из тонкой трубы валил необычайно противный, щипало в глазах. Наконец буксирчик пронзительно свистнул, его труба медленно-медленно поползла вдоль борта к носу лайбы, а через минуту корпус ее вздрогнул от толчка и тоже тихо пополз вперед.
На Неве было совсем тихо. Подхваченная течением лайба двигалась довольно быстро, так что буксирчику, на мой взгляд, делать было нечего. Вдруг он стал давать тревожные гудки тоненьким голоском. В чем дело? Мы оказались среди нескольких десятков таких же лайб, безмолвно стоявших на якорях прямо на фарватере: против течения они идти не могли и, очевидно, ждали попутного ветра. Пробираться между ними было нелегко. Не один раз наваливались мы на борта стоящих на пути парусников, тогда неизменно кто-нибудь выскакивал на палубу и громко ругался по-фински. Такое продолжалось довольно долго, пока, наконец, мы не прошли сквозь весь этот неорганизованный строй. Буксир подал условный сигнал — свистнул как-то иначе, отдал наш конец и повернул обратно. Его шкипер помахал рукою.
Капитан что-то скомандовал — коротко и по-фински. Команда довольно проворно начала ставить паруса. Грот и фок (гафельные, конечно) поставили одновременно, за ними подняли топселя, а вот и взвились один за другим три кливера. С южного берега едва-едва потянул ветерок. Капитан осмотрел в бинокль горизонт, что-то сказал пареньку-рулевому и, обратившись ко мне, процедил: «Юля, это — ночной бриз. До восхода». Он пошел в каюту и уже в дверях добавил: «Хочешь — иди спать».
Все матросы немедленно скрылись в кубрике. Мне захотелось остаться на палубе. Ночь была прохладная, типичная лирическая северная ночь. Бриз дул ровно, хотя и несильно; наша «Анна» бесшумно скользила по воде. На штурвале стоял молодой худощавый блондин, очень опрятно, как, впрочем, и все, одетый. Его на редкость голубые глаза смотрели ласково.
— До утра дотянем на Восточный рейд, — произнес он и умолк. Говорил он внятно, с акцентом, не похожим на финскую речь. — Меня зовут Ронис, я латыш. Учусь в мореходном. У меня есть друг, его тоже Юркой зовут.
Так состоялось знакомство. Мне захотелось показать, что и я понимаю кое-что в парусном деле. Обходя палубу, я задержался у фок-мачты, заметив, что парус заигрывает чуть больше, чем это бывало у нас на яхте.
— Ронис! Фок заполаскивает! — доложил я.
— А ты подбери немножко! — ответил он совершенно спокойно.
Довольный, я бегом кинулся к шкотам. У палубы и под ноком гика покачивались огромные — не чета яхтенным! — двухшкивные блоки с толстенными черными тросами. Один вид их привел меня в трепет: вдруг не хватит сил подобрать парус? Деваться было некуда. Отдав гика-шкот со здоровенного железного нагеля, я напряг все силы и рванул шкот на себя. К моей радости, гик легко пододвинулся к планширю, парус перестал заполаскивать. Руки аппетитно запахли смолой. Спокойным тоном бывалого матроса я доложил, что фок стоит теперь хорошо, Ронис одобрительно кивнул головой.
Хотелось спать, но как-то стыдно было оставить Рониса.
Взошло, наконец-таки, солнышко. Кронштадт совсем рядом. Все ближе лес мачт. Вышел капитан, оглядел небо и приказал вызвать команду. Подойдя к крайней лайбе, мы привелись к ветру и отдали якорь. Более тридцати судов, таких же точно, как наша «Анна», насчитал я вокруг. Команды на них спали, никаких вахтенных не было видно. То с одной, то с другой лайбы доносился собачий лай...
Ронис предложил мне перебраться к ним в кубрик, но капитан услышал и сухо отрезал: «Нельзя»! Возражать, конечно, я не рискнул.
За пять минут приборка палубы была закончена, и вся наша команда снова исчезла «досыпать».
Капитан вручил мне судовой журнал и приказал каждые четыре часа записывать показания барометра. Постучал по большому старинному барометру пальцем, вздохнул и буркнул: «Плохо, начал падать». С этими словами он, кряхтя, улегся на койку и мгновенно заснул.
Что же представляла собою «Св. Анна»? Если длина ее составляла что-то около 30 м, то ширина была никак не меньше 5 м. Наши семь парусов в сумме имели около 300 м2. С грузом сидела она в воде на все 3 м, а груза принимала всего 100 т. Боцман сказал, что водоизмещение ее что-то под 270 т.
— Старенькая она у нас, — и добавил, — в свежую погоду любит водичку морскую попивать.
Боцман, когда было настроение, разговаривал легко, с шутливыми морскими прибаутками. Это никак не вязалось с его внешней суровостью. Ронис по секрету рассказал, что Андрей сам много лет плавал капитаном. Года два назад, глубокой осенью, он шел из Або в Котку и ночью, в дождь, когда не было видно, как он говорил, своего бушприта, никто не разглядел какого-то поворотного огня, и лайба вылетела на скалы. За длинную осеннюю ночь ее разбило, груз погиб. Хозяин получил страховку, а капитана рассчитал.
— А у него большая семья. Ходил без работы, никто его капитаном не брал, вот он и пошел боцманом.
Мне стало очень жаль старика. Теперь я понял, почему он так независимо разговаривает с капитаном.
Был на лайбе, кроме Рониса, еще один молодой парень — курносый, рыжеватый матрос с круглым лицом. Он по-русски говорить не мог совершенно — и не пытался даже, но кроме финского языка прекрасно знал немецкий. Звали его Арнольдом. Был он всегда весел, всегда улыбался и, видимо, его любили. Остальные матросы были значительно старше, по-русски говорили, но очень плохо. Сильные, цепкие, серьезные, они меня просто не замечали, но на утренние приветствия всегда отвечали дружески.
Обедали на судне в полдень, ужинали в 6, вечерний чай пили «по способности», как закипит чайники. Первый свой завтрак и проспал. Обед же показался очень интересным. Камбуз, сколоченный из фанеры, пристроен был впереди фок-мачты. В нем с трудом умещался лишь один и не очень полный человек. Вообще эта будочка производила впечатление какого-то абсолютно случайного сооружении! Маленькая печурка на две конфорки, рядом — доска дли разделки; только думаю, что на этой доске никогда ничего не разделывали — рыбу и картошку чистили обычно на палубе.
Боцман всегда обедал с капитаном. Мне тоже приказано было идти обедать с ними. Арнольд притащил кастрюлю с супом — нечто вроде ухи из салаки со множеством лука и картошки. Когда миска мои опустела, капитан, улыбнувшись, заметил: «Есть ты умеешь, это хорошо...» И с этими словами снова налил чуть не столько же. Потом и бегом отнес пустую кастрюлю на камбуз и получил от Арнольда второе — огромную сковороду жареной салаки и отдельно — мисочку салаки сырой. Я никак не мог взять в толк — зачем нести к столу сырую рыбу, но «кок» заулыбался и только сказал: «Шнель, шнель». Капитан положил себе и мне по внушительной горке хорошо прожаренной салаки (и никогда такой вкусной не пробовал!). Боцман же брал сырую рыбину, ногтем большого пальца ловко ее разделывал, густо солил и с аппетитом ел, закусывай черным петербургским хлебом. Ели молча. На третье был чай. Я принес медный чайник. Капитан достал из-под койки банку варенья и густо намазал каждому по два куска хлеба (сахар к обеду не полагался). Этот черный хлеб с вареньем показался лучше любого торта, но добавки уже не было.
После обеда капитан, стой в дверях, приказал: «Запиши: ветер вест 3 балла!» Я никакого ветра не чувствовал вообще. Как же капитан мог уверенно определить направление? Осмелев, и спросил: «Диди Карл, а почему вест?» Капитан помолчал и после далеко не короткой паузы пояснил: «По вкусу». Я в недоумении молчал, уставившись на капитана. Он, видимо, пришел к выводу, что ответ его слишком краток дли целей учебы и объяснил, конечно, тоже не сразу:
— Каждый ветер, Юли, имеет свой вкус. Вот втяни его в себя: видишь — вкусно пахнет морем! Дышится легко. Оближи губы — почувствуешь горьковатую соленость. Значит — определенно вест. А если не солено, а сухо, а морского запаха меньше — значит норд-вест...
Долго, с паузами, старый моряк растолковывал, какой ветер как пахнет, снова глотал воздух и снова, ни к кому не обращаясь, пояснил: «Вест у нас не настойчивый. Подует, подует и к вечеру обязательно стихнет. После заката бризок потянет, вот тогда в бакштаг мы и «проползем» Кронштадтские ворота. Так-то вот...»
Все это говорилось медленно, с чувством и толком. Акцент его уже начинал нравиться мне. Я узнал, что попутного ветра дли прохода кронштадтских узкостей приходится ждать иногда по нескольку дней. Хозяева побогаче разрешают шкиперам нанимать буксир, это стоит, однако, дорого — не меньше 15 рублей за чае, а если надо идти по реке против течении, — цена двойная! Так что лучше денек постоять, чем бросать деньги за борт.
Как и предполагал капитан, к вечеру ветерок стих. Тем не менее, на лайбах начали поднимать паруса, и, когда с закатом потянул с берега бриз, суда по очереди стали сниматься с якорей, вытягиваться на фарватер. Наши старики долго о чем-то спорили. Ронис объяснил, что боцман почему-то не советует сниматься. Капитан все же решил уходить. Якорь выхаживался медленно, хотя за вымбовки шпили взялась вся команда. Включились в работу, конечно, и мы с Ронисом, но быстрее дело не пошло. Палы стопора лязгали неторопливо, якорь-цепь, хрусти в клюзе, лениво выползала на палубу. Вот, наконец-то, голос боцмана: «Якорь чист!» Однако еще долго шхуна наша стоила, как вкопанная, и лишь временами негромко заполаскивали паруса. В конце концов «Анна» все-таки начала уваливаться: помогли вынесенные на ветер большие кливера, течение подталкивало в нужную сторону, да и бриз чуть прибавил силы. Натянулись шкоты, заскрипели блоки. Бесшумно и как-то даже торжественно проходила «Анна» мимо Кронштадта. На кораблях звонко отбивали склянки.
Ночью на руле стоил Арнольд, капитан сидел рядом на табурете и молча поглядывал на море. Когда мы завтракали, старики как-то озабоченно перекидывались редкими фразами, причем иногда вдруг переходили на русский. Принимаясь пить чай, боцман изрек: «Обязательно получим ветер в лоб, весь день будем лавировать...» Чувствовалось, что капитан знает это и сам, и ему это очень не нравится. Он нахмурился, через пару минут буркнул что-то, вздохнул, вышел на палубу и уже оттуда продиктовал мне очередную запись. Барометр с ночи, не задерживаясь, падал: уже было 748 мм.
Перед обедом пошла зыбь с юго-запада. Пронеслись какие-то не совсем чистые белые облака, за ними пожаловали уже и вовсе серые. Облака быстро сгрудились, горизонт посинел, — над морем навис мрачный «потолок». Глотай воздух, и, к удивлению, действительно чувствовал особый его запах, ощутил соль на губах, ладони стали чуть влажными. Нарочито облизываясь, и смело доложил: «А это зюйд-вест мокрик!»
Команда сноровисто убрала топсели. Закапал дождик, ветер усилился. Лайба чуть накренилась, под носом зашумела волна. Появились беляки. Первые брызги захлестнули на бак. Начало покачивать — пошла килевая качка.
Потом налетел уже и настоящий шквал с дождем. Лайбу резко накренило. С бака вода уже потоком неслась по палубе. Блеснула молнии. Кругом все почернело. Белые гребни уже «без стеснении» влетали на палубу.
На руле стоил сам капитан, Арнольд находился рядом, готовый помочь. Ходил штурвал очень тяжело, ворочать его было, видимо, не просто. Чем дальше мы шли, тем волна становилась все больше, а лайба казалась мне все меньше. Пропало всякое впечатление се солидности: судно бодро ныряло в воду бушпритом, задирал широкую корму. Странная вещь: и не раз попадал в свежий ветер и именно здесь — у Стирсуддена, но на яхте все было как-то по-домашнему и менее шумно, хотя и так же мокро. А вот когда просторная палуба «Анны» медленно, но неумолимо начинала наклониться к воде и кренилась, казалось, не собираясь останавливаться, даже когда у ватервейса уже бурлит пена, — становилось жутковато, приходилось за что-нибудь крепко держаться.
Наверно, на лице моем не очень-то сиял румянец. Капитан, посмотрев внимательно, только спросил: «Страшно?» И и потом понять не мог, как это получилось — будто бы без моего разрешении, вырвался мой ответ: «Немножко». Капитан спокойно сказал: «Тогда хорошо...» Что, собственно, было хорошо, я и до сих пор не знаю, только почувствовал я себя гораздо уверенней.
Через пелену дождя стал виден стройный силуэт маяка Стирсудден. Мы шли левым галсом и держали левее его в надежде обойти каменистые банки и повернуть в галфвинд для входа в знакомый мне Биёрке-Зундский пролив, однако было заметно, что нас сносит, прижимая к камням. По всей лайбе что-то нудно скрипело. Наша старушка все сильнее и сильнее стонала рангоутом, снастями н переборками. Я заметил еще, что она все тяжелее всходит на волну, нос все больше садится в воду. Словно судно, устав мотаться по морю, просит пощады, становясь на колени...
— Как барометр? — крикнул капитан. Я нырнул в каюту. Противно было здесь. Казалось, сейчас все обрушится на меня. Карта с грузиками сползла на пол, табуретка опрокинулась. Взглянул на барометр: стрелка стояла на 745.
Ронис отдыхал — сидел, скорчившись, за рубкой. «Зачем это боцман все время бегает вниз?» — спросил я его. Парень снисходительно посмотрел на меня: «Течет наша «Анна», как решето, вот он и смотрит, не много ли воды поверх пайолов...» Досказать Ронис не успел, ибо раздалась команда, он кинулся к входу в кубрик. Матросы вытащили толстенный шланг и начали качать воду. Они менялись часто, работали энергично: поток грязной и ржавой воды хлестал на палубу и бурлил у шпигатов...
Вдруг раздался оглушительный выстрел. Все, однако, остались спокойны, один я крутил головой, ничего не понимая. Капитан невозмутимо заметил: «Он был очень старый!». Оказалось, он — это парус: порывом ветра в клочья разнесло бом-кливер...
Маяк прямо по носу. Хорошо видно, как взлетает вверх волна, разбиваясь о камни. Эта картина нравится мне все меньше, по мере того как мы подходим ближе. Килевая качка все сильнее. Когда судно встает на дыбы или, наоборот, проваливается носом и при этом на бак с ревом обрушивается волна, кажется, что оно больше не выйдет из этого угрожающего положения.
Пора ворочать, а волны, как назло, одна выше другой! Капитан решает, наконец, сделать поворот. «Анна» с большим трудом, очень неохотно приводится, но в решающий момент в левую скулу один за другим ударяют такие сильные беляки, что лайба, беспомощно клюнув носом, останавливается. Вынесенные на ветер кливера не помогают, она медленно-медленно идет обратно под ветер...
Уже совсем близко пена прибоя! Капитан увалился, одновременно мы чуть потравили шкоты: «Анна», будто этого и ждала, мощно рванулась вперед, снова набирая ход. Через пару — другую минут капитан вновь положил руля «лево на борт». Я с замиранием сердца следил за тем, как судно, то отбрасывая в сторону волны, то зарываясь носом и замедляя ход, все же вылезло на ветер и почти без задержки легло на правый галс. Все в порядке! Мы летим в море от берега.
Видимо, желая как-то объяснить неудачу с первым поворотом, капитан проворчал: «Вода. Сидели носом. Вся вода в носу.»
В Койвисто мы зашли, чтобы сдать часть груза — Доски, соль и муку — местному купцу. Простояли здесь, отдав оба якоря, больше суток, так как штормило и мы не могли начать разгрузку: ни один барказ не рисковал подойти к борту, а никаких молов или пирсов в те годы здесь не было.
Утром капитан в необычайно хорошем настроения мурлыкал себе под нос какой-то мотивчик и между прочим проверил, смогу ли я определить ветер по вкусу. Весело и бодро пошли дальше — в Выборг.
Когда уже показалась башня старой крепости, на камнях у самого фарватера мы увидели полузатопленную лайбу. Грустно болтались обрывки снастей. Мы шли очень близко. Все молчали. Капитан, вздохнув, пояснил: «В шхерах лавировать нельзя. Не успел сделать поворот — пропал! Если ветер не пускает, — стой, становись на якорь, не раздумывай!» Боцман стоял мрачный, вспоминал, наверно, свою катастрофу...
Выборгский порт плотно заставлен был пароходами и парусниками. Ни кусочка свободного места. Интересно, подумал я, куда же мы встанем? И как? Ведь ветер навальный. Капитан, однако, действовал уверенно и, как всегда, неторопливо. Мы мягко привалились к ближайшему паруснику. Да, подумалось мне, видимо, наш старик — действительно опытный моряк!
После ужина капитан отпустил всех «отдыхать» на берег. Ронис и Арнольд, подмигивая, пригласили меня пойти с ними, но капитан, нахмурившись, сказал: «Нельзя, он идет со мной...»
В те годы на горе, на Крепостной улице — на углу маленького переулочка, спускавшегося к порту, была в первом этаже старого дома таверна — не таверна, одним словом, специфически морская столовая. Столы деревянные, массивные табуреты, освещение — мягко шипевшими керосиновыми лампами под зелеными абажурами. В помещении чисто и уютно, но невероятно накурено: дым стоял, как говорят, столбом. Громко играла музыка — гремел диковинный механический инструмент: под стеклом медленно крутился большущий металлический диск с рядами дырочек. Звуки были похожими на шарманку, но сильнее и резче. Мне показалось, что все посетители принадлежали к морскому сословию: многие приветствовали капитана, он пожимал им руки, что-то бурчал. Все сидевшие пили из огромных кружек пиво или особый финский напиток, вроде кваса, из яблок, называли его «помряль».
Официантками работали пожилые женщины, очень ласковые и внимательные. Одна из них, вытирая стол, спросила меня по-фински: «Это ваш папа?» Я, помню, сконфузился, не зная, как сказать, но капитан меня выручил, буркнув по-русски: «Я бы не прочь иметь такого парня...»
Как только мы вышли на открытый плес, он поставил меня на руль. До сих пор — хотя прошло шестьдесят пять лет! — помню то ощущение, когда в моих руках оказался штурвал. Сначала лайба ходила то вправо, то влево, — я ничего не мог поделать с нею и страшно переживал, — но понемногу судно становилось все более послушным, а вскоре уже пошло, как положено. Помню, как я был горд и счастлив!
- Главная
- Истории
- Литературная страничка
- 1978 год
- На лайбе «Святая Анна» из книги воспоминаний «Парус — моя жизнь»
Подкатегории раздела
Путешествия
Туристические походы
Знаменитые корабли
Военная страничка
Литературная страничка
История флота
Прочие истории
Поделитесь информацией
Похожие статьи
Необычная гонка — из книги воспоминаний «Парус — моя жизнь»
Контрабандисты — глава из рукописи новой книги «Парус — моя жизнь»
Бригантина «Анна Мария» поднимает паруса
Из книги «Нелегкое искусство плавания под парусами»
Уроки постановки парусов из книги «Справочник яхтсмена»
Средства управления парусной лодкой из книги «Справочник яхтсмена»
Оборвалась жизнь мастера спорта по парусу Ивана Петровича Матвеева
Как самому сшить парус
Малая килевая яхта «Парус-2»
Парус Маркони или Бермудский?
Парус из алюминиевой фольги
Парус — дань традиции или необходимость?
Парус для шпоновых лодок и аналогичных размерений
Полезные мелочи: швартовка, тент, пояс, парус-киса, румпель...
Контрабандисты — глава из рукописи новой книги «Парус — моя жизнь»
Бригантина «Анна Мария» поднимает паруса
Из книги «Нелегкое искусство плавания под парусами»
Уроки постановки парусов из книги «Справочник яхтсмена»
Средства управления парусной лодкой из книги «Справочник яхтсмена»
Оборвалась жизнь мастера спорта по парусу Ивана Петровича Матвеева
Как самому сшить парус
Малая килевая яхта «Парус-2»
Парус Маркони или Бермудский?
Парус из алюминиевой фольги
Парус — дань традиции или необходимость?
Парус для шпоновых лодок и аналогичных размерений
Полезные мелочи: швартовка, тент, пояс, парус-киса, румпель...
На лайбе «Святая Анна» из книги воспоминаний «Парус — моя жизнь»
Год: 1978. Номер журнала «Катера и Яхты»: 76 (Все статьи)
ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ
Капитан Дей Флеминг идет через океан
Из Нью-Йорка в Париж на катере «Спирит оф Нашвилл»
ОСВОДовский рейд по Тюменскому краю
Путешествие Колина Куинси через Тасманово море
Путешествие на парусниках по озеру Кереть
Первые страницы истории Советского парусного спорта
Плавание на яхте «Арктика» по Средиземному морю
Слово о балтийских охотниках — катерах «МО»
История создания катеров типа «Малый охотник»
В Баренцево море на моторно-парусной яхте
Повторение плавания к Америке совершенное Св. Бренданом
Интервью у Яна и Петра Паты на борту «Каравеллы»
Плавание на яхте «Гедания» из Арктики в Антарктику
5000-километровое путешествие на надувной лодке «Пеликан»
В теплые страны или как я стал жителем Сенгилея
Из Нью-Йорка в Париж на катере «Спирит оф Нашвилл»
ОСВОДовский рейд по Тюменскому краю
Путешествие Колина Куинси через Тасманово море
Путешествие на парусниках по озеру Кереть
Первые страницы истории Советского парусного спорта
Плавание на яхте «Арктика» по Средиземному морю
Слово о балтийских охотниках — катерах «МО»
История создания катеров типа «Малый охотник»
В Баренцево море на моторно-парусной яхте
Повторение плавания к Америке совершенное Св. Бренданом
Интервью у Яна и Петра Паты на борту «Каравеллы»
Плавание на яхте «Гедания» из Арктики в Антарктику
5000-километровое путешествие на надувной лодке «Пеликан»
В теплые страны или как я стал жителем Сенгилея
ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ
На лайбе «Святая Анна» из книги воспоминаний «Парус — моя жизнь»
СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ
История парусных судов на озере Байкал
55 лет в плену Аральского моря
На надувной лодке через Черное море
Корабль-памятник «Турбиния» сэра Чарльза Парсонса
Путешествие яхты «Рица» за нулевой меридиан
Глава из книги «Бродяга» яхтсмена Кшиштофа Барановского
Арктический рейс Вилли де Рооса
Плавание «Фрегата» до Корсакова и обратно
Путешествие Запорожье — Ленинград на семи моторках
Десант под парусами в Балтийском море
600-мильное плавание Белым и Баренцевым морями на яхте «Надежда»
Яхта «Арктика» на пороге Атлантики
Капитан шхуны «Ленинград» Иван Петрович Матвеев
На яхтах-по местам боевой и революционной славы
Научно-спортивная экспедиция к мысу Челюскин на плоту
55 лет в плену Аральского моря
На надувной лодке через Черное море
Корабль-памятник «Турбиния» сэра Чарльза Парсонса
Путешествие яхты «Рица» за нулевой меридиан
Глава из книги «Бродяга» яхтсмена Кшиштофа Барановского
Арктический рейс Вилли де Рооса
Плавание «Фрегата» до Корсакова и обратно
Путешествие Запорожье — Ленинград на семи моторках
Десант под парусами в Балтийском море
600-мильное плавание Белым и Баренцевым морями на яхте «Надежда»
Яхта «Арктика» на пороге Атлантики
Капитан шхуны «Ленинград» Иван Петрович Матвеев
На яхтах-по местам боевой и революционной славы
Научно-спортивная экспедиция к мысу Челюскин на плоту
Ссылка на эту статью в различных форматах
HTMLTextBB Code
Комментарии к этой статье
Еще нет комментариев
Barque.ru © 2013 | Контакты | Карта сайта | Мобильная версия
Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы
Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление
Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты
Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов
Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам
Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию
Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории
Судостроение: Парусные суда Моторные суда Технологии Экранопланы
Моторы: Описание моторов Устройство моторов Самодельные моторы Тюнинг моторов Обслуживание моторов Дистанционное управление
Проекты: Парусные яхты Парусные катамараны Парусные тримараны Моторные лодки Катера Туристические суда Рыболовные суда Виндсерфинги и лыжи Прицепы и трейлеры Прочие проекты
Спорт: Новости спорта Парусные соревнования Водномоторный спорт Воднолыжный спорт Виндсерфинг Буерные соревнования Соревнования туристов
Консультации: Полезные устройства Полезные советы Улучшение судов Улучшение моторов Опыт эксплуатации Техника плавания Разбор аварий Рыболовам
Кругозор: Новые суда и устройства Интересные события Интересные факты Интервью Карты и маршруты Официальные данные Проблемы малого флота Яхт-клубы и стоянки Письма в редакцию
Истории: Путешествия Туристические походы Знаменитые корабли Военная страничка Литературная страничка История флота Прочие истории